Распределение бремени доказывания в банкротстве
28 ОКТЯБРЯ / 2024
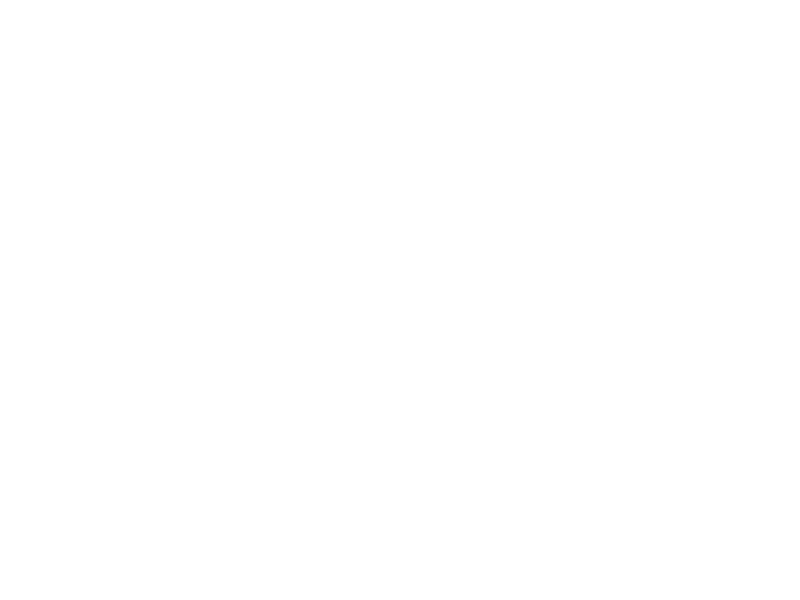
Верховный суд уже многократно разъяснял правила распределения бремени доказывания в делах о банкротстве – то есть в ситуации информационной диспропорции, когда арбитражный управляющий, и кредиторы значительно ограничены в способах доказывания и источниках информации, в связи с чем бремя доказывания переносится на ответчика, который, в случае своей добросовестности, напротив, имеет прямой доступ к доказательствам и его не затруднит опровергнуть фиктивность правоотношений или наличие злоупотребления. Однако применение данных разъяснений судами нижестоящих инстанций по каким-то причинам происходит достаточно неохотно. Поэтому особенного внимания заслуживают случаи, в которых данная практика была имплементирована в практику судов нижестоящих инстанций.
Так, в октябре данный подход был применен судом Поволжского округа в Постановлении от 07.10.2024 по делу № А57-1405/2022.
01.12.2020 и 22.03.2021 между должником (потребитель) и ПАО «ТНС Энерго Ярославль» (гарантирующий поставщик) были заключены договоры энергоснабжения №76110002334 и №76110002655. Ссылаясь
В указанном споре истце ссылался на создание схемы «центр прибыли – центр убытков» за счет того, что 01.12.2020 и 22.03.2021 между ООО «Экопетровск» (должник, потребитель) и ПАО «ТНС Энерго Ярославль» (гарантирующий поставщик) были заключены договоры энергоснабжения №76110002334 и №76110002655. Должник, не имея в собственности соответствующего имущества – был вынужден арендовать котельные и необходимое оборудование у АО «Компания «Славич», ООО «Переславский Технопарк», ООО «Индустриальный Парк «Плещеево», ООО «Аренда Плюс», ООО «Энергозавод Плюс», Гордеева Г.В., которые привлекались в рамках указанного спора к субсидиарной ответственности.
Обосновывая свою позицию истец указывал на следующие признаки наличия контроля и злонамеренной модели бизнеса:
Мы полагаем, что данный судебный акт – это хороший пример следования сформулированному Верховным судом РФ в Определении № 303-ЭС24-372 по делу № А59-576/2022 принципа распределения бремени доказывания: таким образом, судом кассационной инстанции было верно указано, что в данном случае достаточным является представление совокупности косвенных доказательств, таких как: совпадения в кадровом составе, номерах телефонов, адресах, доменном имени, введение в состав управления подконтрольного общества номинальных (аффилированных) лиц, а также наличие признаков, свидетельствующих об экономической нецелесообразности для должника вступать в отношения с таким контрагентом. При этом принцип оценки таких косвенных доказательств был сформулирован Верховным судом в Определении Верховного суда РФ от 14.11.2022 № 307-ЭС17-10793 (26-28): «учитывая тот факт, что намерение причинить вред, как правило, не афишируется, требование от потерпевшего представления им прямых доказательств согласованной воли сопричинителей о совместном причинении вреда чрезмерно и неоправданно. Вывод об этих обстоятельствах может быть сделан на совокупности согласующихся между собой косвенных доказательств по принципу: «установленные обстоятельства указывают на то, что скорее всего событие произошло только в результате согласованных действий».
В действительности данные принципы уже довольно прочно закрепились в практике Верховного суда, например:
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2020 №304- ЭС19-25557(3) по делу №А46-10739/2017:
Как верно указал суд первой инстанции, учитывая объективную сложность получения кредитором отсутствующих у него прямых доказательств дачи бенефициаром указаний относительно совершения тех или иных сделок, направленных на выведение из оборота должника денежных средств, должны приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств, анализ поведения вовлеченных в спорные отношения субъектов.
Кредитор привел достаточно серьезные доводы и представил существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными его аргументы о контроле Головачева С.А. за процедурой совершения сделок, поэтому в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обратного перешло на привлекаемое к ответственности лицо. Таких доказательств Головачев С.А. не представил.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2020 №301-ЭС17-19678 по делу №А11-7472/2015:
При этом суд апелляционной инстанции не учел, что в отношении прикрывающих сделок документы, как правило, изготавливаются так, что у внешнего лица создается впечатление будто бы стороны действительно следуют условиям притворных договоров. Бенефициар, не имеющий формальных полномочий собственника, не заинтересован в раскрытии своего статуса перед третьими лицами, поэтому он обычно не составляет документы, в которых содержатся явные и однозначные указания, адресованные должнику и участникам притворных сделок, относительно их деятельности. В такой ситуации суду апелляционной инстанции следовало проанализировать поведение лиц, которые, по мнению конкурсного управляющего, участвовали в оформлении притворных договоров. О наличии их подконтрольности бенефициару как единому центру, чья воля определяла судьбу имущества должника, в частности, могли свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов скоординированы в отсутствие к тому объективных экономических причин; по отдельности эти действия противоречат экономическим интересам и возможностям каждого из лиц; данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одному и тому же лицу и т.д.
Учитывая изложенное и объективную сложность получения управляющим отсутствующих у него прямых доказательств притворности, должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств. Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные свидетельства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о совершении лишь одной прикрываемой сделки по прямому отчуждению должником своего имущества бенефициару, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обратного переходит на стороны цепочки последовательных договоров купли-продажи, ссылающихся на самостоятельный характер отношений по каждой из сделок.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.02.2018 №302-ЭС14-1472(4,5,7) по делу №А33-1677/2013:
Кроме того, разрешая спор в этой части, суды, по сути, сочли, что вменяемый Абазехову Х.Ч. контроль над обществом "ИНКОМ" должен быть подтвержден лишь прямыми доказательствами – исходящими от бенефициара документами, в которых содержатся явные указания, адресованные должнику, относительно его деятельности.
Однако конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица. Наоборот, он обычно скрывает наличие возможности оказания влияния на должника. Его отношения с подконтрольным обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения.
В такой ситуации судам следовало проанализировать поведение привлекаемого к ответственности лица и должника. О наличии подконтрольности, в частности, могли свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных экономических причин; они противоречат экономическим интересам должника и одновременно ведут к существенному приросту имущества лица, привлекаемого к ответственности; данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому и т.д.
Учитывая объективную сложность получения арбитражным управляющим, кредиторами отсутствующих у них прямых доказательств дачи указаний, судами должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств, сформированная на основании анализа поведения упомянутых субъектов. Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о возникновении отношений фактического контроля и подчиненности, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обратного переходит на привлекаемое к ответственности лицо.
Напоследок приведем практику Верховного суда, касающуюся того, какими именно могут быть косвенные доказательства, подтверждающие фактические обстоятельства по делу:
1) Перекрестное представительство: Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 26.08.2020 года № 308-ЭС- 2721 по делу № А53-30443/2016 – само по себе наличие общих представителей у арбитражного управляющего и кредиторов связанность не может подтверждать.
Таким образом, стороне, возражающей против утверждения конкретной кандидатуры арбитражного управляющего (либо саморегулируемой организации), достаточно подтвердить существенные и обоснованные сомнения в независимости управляющего, иными словами, зародить у суда разумные подозрения относительно приемлемости названной кандидатуры. Следовательно, в целях отклонения кандидатуры управляющего отсутствовала необходимость доказывать его аффилированность с должником, избранный судом округа подход является излишне строгим, что не согласуется с вышеназванными разъяснениями.
Отклоняя кандидатуру предложенного СРО АУ «ЦФО» управляющего Черепанова П.Ю., суды первой и апелляционной инстанции установили следующие обстоятельства:
2) Совпадение адреса, IP-адресов, внутригрупповые переводы денежных средств, многократное повторение определенной «модели поведения»: Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 06.06.2023 года № 304-ЭС22-27912 по делу № А45-28299/2020
По выводам антимонопольного органа факт заключения обществами антиконкурентного соглашения при участии в торгах, подтверждается совокупностью доказательств, приведенных в решении антимонопольного органа, согласно которым в том числе установлены следующие обстоятельства: фактическое расположение участников соглашения по одному адресу; использование идентичных IP-адресов (89.189.185.212) для осуществления процессуально значимых действий в системе «Банк Клиент»; наличие банковских переводов (операций по счетам) между участниками соглашения; взаимосвязь при осуществлении процессуально значимых действий на электронно-торговых площадках и центрах выдачи электронных цифровых подписей; единство кадрового состава (массовые перекрестные совмещения единовременной работы сотрудников); заключение между обществами договора о техническом сотрудничестве от 01.06.2017 № 54-01/17, в соответствии с которым стороны совместно проводят маркетинговые исследования, осуществляют поиск потенциальных заказчиков, участвуют в торгах на выполнение работ/оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования лучевой терапии и другой медицинской техники, по поставке и утилизации радионуклидных источников для гамма-аппаратов и др. (пункт 1.5 статьи 1).
При участии в закупочных процедурах прослеживается определенная модель поведения: в каждом из аукционов, где принимали участие только эти общества, они, формально выступая в качестве конкурентов, уступали победу друг другу по максимально возможной цене, создавали видимость конкурентной борьбы на торгах, однако процент снижения начальной (максимальной) цены был минимальным, то есть имело место поддержание цен на торгах, при том, что торги проходили в разные периоды времени, отличались друг от друга начальной (максимальной) ценой и рядом других обстоятельств, однако описанная модель поведения участников, состоящая из повторяющихся и аналогичных действий прослеживается в каждом из рассматриваемых аукционов. Напротив, как утверждал антимонопольный орган, на торгах, в которых принимали участие иные хозяйствующие субъекты, снижение начальной (максимальной) цены контракта достигало существенных значений (от 49% до 87%) за счет предложений, поступающих от участников соглашения.
Так, в октябре данный подход был применен судом Поволжского округа в Постановлении от 07.10.2024 по делу № А57-1405/2022.
01.12.2020 и 22.03.2021 между должником (потребитель) и ПАО «ТНС Энерго Ярославль» (гарантирующий поставщик) были заключены договоры энергоснабжения №76110002334 и №76110002655. Ссылаясь
В указанном споре истце ссылался на создание схемы «центр прибыли – центр убытков» за счет того, что 01.12.2020 и 22.03.2021 между ООО «Экопетровск» (должник, потребитель) и ПАО «ТНС Энерго Ярославль» (гарантирующий поставщик) были заключены договоры энергоснабжения №76110002334 и №76110002655. Должник, не имея в собственности соответствующего имущества – был вынужден арендовать котельные и необходимое оборудование у АО «Компания «Славич», ООО «Переславский Технопарк», ООО «Индустриальный Парк «Плещеево», ООО «Аренда Плюс», ООО «Энергозавод Плюс», Гордеева Г.В., которые привлекались в рамках указанного спора к субсидиарной ответственности.
Обосновывая свою позицию истец указывал на следующие признаки наличия контроля и злонамеренной модели бизнеса:
- заведомо невыгодные для должника условия аренды;
- наличие у ответчиков выгоды в виде изъятия части выручки должника через арендную плату при постоянной убыточности для ресурсоснабжающих организаций (внешних кредиторов);
- неоднократное использование аналогичной схемы ведения бизнеса с доведением организации, эксплуатирующей котельную, до банкротства (сначала ООО «Переславский технопарк», затем ООО «ПЭК», затем ООО «Экопетровск» (должник), затем ООО «Рэнсон»); 15 А57-1405/2022 – регистрация ООО «ПЭК», ООО «Экопетровск», ООО «Рэнсон» без наделения какими-либо активами;
- регистрация ООО «ПЭК», ООО «Экопетровск», ООО «Рэнсон» в Саратовской области, хотя деятельность всех трех предприятий осуществлялась в Ярославской области;
- идентичный штат работников;
- идентичность доменов электронной почты, а также номеров телефонов у ООО «ПЭК», ООО «Экопетровск», АО «Компания Славич»;
- представление в суде интересов должника и ответчиков одними и теми же лицами;
- идентичный формат текста и шрифта доверенности должника и ответчиков.
Мы полагаем, что данный судебный акт – это хороший пример следования сформулированному Верховным судом РФ в Определении № 303-ЭС24-372 по делу № А59-576/2022 принципа распределения бремени доказывания: таким образом, судом кассационной инстанции было верно указано, что в данном случае достаточным является представление совокупности косвенных доказательств, таких как: совпадения в кадровом составе, номерах телефонов, адресах, доменном имени, введение в состав управления подконтрольного общества номинальных (аффилированных) лиц, а также наличие признаков, свидетельствующих об экономической нецелесообразности для должника вступать в отношения с таким контрагентом. При этом принцип оценки таких косвенных доказательств был сформулирован Верховным судом в Определении Верховного суда РФ от 14.11.2022 № 307-ЭС17-10793 (26-28): «учитывая тот факт, что намерение причинить вред, как правило, не афишируется, требование от потерпевшего представления им прямых доказательств согласованной воли сопричинителей о совместном причинении вреда чрезмерно и неоправданно. Вывод об этих обстоятельствах может быть сделан на совокупности согласующихся между собой косвенных доказательств по принципу: «установленные обстоятельства указывают на то, что скорее всего событие произошло только в результате согласованных действий».
В действительности данные принципы уже довольно прочно закрепились в практике Верховного суда, например:
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2020 №304- ЭС19-25557(3) по делу №А46-10739/2017:
Как верно указал суд первой инстанции, учитывая объективную сложность получения кредитором отсутствующих у него прямых доказательств дачи бенефициаром указаний относительно совершения тех или иных сделок, направленных на выведение из оборота должника денежных средств, должны приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств, анализ поведения вовлеченных в спорные отношения субъектов.
Кредитор привел достаточно серьезные доводы и представил существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными его аргументы о контроле Головачева С.А. за процедурой совершения сделок, поэтому в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обратного перешло на привлекаемое к ответственности лицо. Таких доказательств Головачев С.А. не представил.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2020 №301-ЭС17-19678 по делу №А11-7472/2015:
При этом суд апелляционной инстанции не учел, что в отношении прикрывающих сделок документы, как правило, изготавливаются так, что у внешнего лица создается впечатление будто бы стороны действительно следуют условиям притворных договоров. Бенефициар, не имеющий формальных полномочий собственника, не заинтересован в раскрытии своего статуса перед третьими лицами, поэтому он обычно не составляет документы, в которых содержатся явные и однозначные указания, адресованные должнику и участникам притворных сделок, относительно их деятельности. В такой ситуации суду апелляционной инстанции следовало проанализировать поведение лиц, которые, по мнению конкурсного управляющего, участвовали в оформлении притворных договоров. О наличии их подконтрольности бенефициару как единому центру, чья воля определяла судьбу имущества должника, в частности, могли свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов скоординированы в отсутствие к тому объективных экономических причин; по отдельности эти действия противоречат экономическим интересам и возможностям каждого из лиц; данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одному и тому же лицу и т.д.
Учитывая изложенное и объективную сложность получения управляющим отсутствующих у него прямых доказательств притворности, должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств. Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные свидетельства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о совершении лишь одной прикрываемой сделки по прямому отчуждению должником своего имущества бенефициару, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обратного переходит на стороны цепочки последовательных договоров купли-продажи, ссылающихся на самостоятельный характер отношений по каждой из сделок.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.02.2018 №302-ЭС14-1472(4,5,7) по делу №А33-1677/2013:
Кроме того, разрешая спор в этой части, суды, по сути, сочли, что вменяемый Абазехову Х.Ч. контроль над обществом "ИНКОМ" должен быть подтвержден лишь прямыми доказательствами – исходящими от бенефициара документами, в которых содержатся явные указания, адресованные должнику, относительно его деятельности.
Однако конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица. Наоборот, он обычно скрывает наличие возможности оказания влияния на должника. Его отношения с подконтрольным обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения.
В такой ситуации судам следовало проанализировать поведение привлекаемого к ответственности лица и должника. О наличии подконтрольности, в частности, могли свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных экономических причин; они противоречат экономическим интересам должника и одновременно ведут к существенному приросту имущества лица, привлекаемого к ответственности; данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому и т.д.
Учитывая объективную сложность получения арбитражным управляющим, кредиторами отсутствующих у них прямых доказательств дачи указаний, судами должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств, сформированная на основании анализа поведения упомянутых субъектов. Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о возникновении отношений фактического контроля и подчиненности, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обратного переходит на привлекаемое к ответственности лицо.
Напоследок приведем практику Верховного суда, касающуюся того, какими именно могут быть косвенные доказательства, подтверждающие фактические обстоятельства по делу:
1) Перекрестное представительство: Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 26.08.2020 года № 308-ЭС- 2721 по делу № А53-30443/2016 – само по себе наличие общих представителей у арбитражного управляющего и кредиторов связанность не может подтверждать.
Таким образом, стороне, возражающей против утверждения конкретной кандидатуры арбитражного управляющего (либо саморегулируемой организации), достаточно подтвердить существенные и обоснованные сомнения в независимости управляющего, иными словами, зародить у суда разумные подозрения относительно приемлемости названной кандидатуры. Следовательно, в целях отклонения кандидатуры управляющего отсутствовала необходимость доказывать его аффилированность с должником, избранный судом округа подход является излишне строгим, что не согласуется с вышеназванными разъяснениями.
Отклоняя кандидатуру предложенного СРО АУ «ЦФО» управляющего Черепанова П.Ю., суды первой и апелляционной инстанции установили следующие обстоятельства:
- у предыдущего конкурсного управляющего Сергеева М.В. (член СРО АУ «ЦФО»), Волкова Д.Ю. (предполагаемого, по мнению независимых кредиторов, контролирующего должника лица) и кредитора – общества «Логистик Партнерс» был в разные периоды времени общий представитель – Смирнов А.В.;
- предложенный СРО АУ «ЦФО» вместо Сергеева М.В. арбитражный управляющий Черепанов П.Ю. является управляющим в другом деле (№ А53-4395/2016 о банкротстве общества «Донпрессмаш-Энерго»), в рамках которого его выбрали кредиторы, связанные с группой МТЕ и Волковым Д.Ю.;
- в деле о банкротстве общества «Донпрессмаш-Энерго» интересы конкурсного управляющего представляла Петрикант А.В., в то же время данное лицо представляло интересы общества «МТЕ ДПМ» (связанного с группой МТЕ и Волковым Д.Ю.) в рамках настоящего дела;
- в деле о банкротстве общества «Донпрессмаш-Энерго» интересы конкурсного управляющего представляла Бочкова Е.С., которая также представляла интересы и отстраненного конкурсного управляющего Сергеева М.В. и т.д.
2) Совпадение адреса, IP-адресов, внутригрупповые переводы денежных средств, многократное повторение определенной «модели поведения»: Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 06.06.2023 года № 304-ЭС22-27912 по делу № А45-28299/2020
По выводам антимонопольного органа факт заключения обществами антиконкурентного соглашения при участии в торгах, подтверждается совокупностью доказательств, приведенных в решении антимонопольного органа, согласно которым в том числе установлены следующие обстоятельства: фактическое расположение участников соглашения по одному адресу; использование идентичных IP-адресов (89.189.185.212) для осуществления процессуально значимых действий в системе «Банк Клиент»; наличие банковских переводов (операций по счетам) между участниками соглашения; взаимосвязь при осуществлении процессуально значимых действий на электронно-торговых площадках и центрах выдачи электронных цифровых подписей; единство кадрового состава (массовые перекрестные совмещения единовременной работы сотрудников); заключение между обществами договора о техническом сотрудничестве от 01.06.2017 № 54-01/17, в соответствии с которым стороны совместно проводят маркетинговые исследования, осуществляют поиск потенциальных заказчиков, участвуют в торгах на выполнение работ/оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования лучевой терапии и другой медицинской техники, по поставке и утилизации радионуклидных источников для гамма-аппаратов и др. (пункт 1.5 статьи 1).
При участии в закупочных процедурах прослеживается определенная модель поведения: в каждом из аукционов, где принимали участие только эти общества, они, формально выступая в качестве конкурентов, уступали победу друг другу по максимально возможной цене, создавали видимость конкурентной борьбы на торгах, однако процент снижения начальной (максимальной) цены был минимальным, то есть имело место поддержание цен на торгах, при том, что торги проходили в разные периоды времени, отличались друг от друга начальной (максимальной) ценой и рядом других обстоятельств, однако описанная модель поведения участников, состоящая из повторяющихся и аналогичных действий прослеживается в каждом из рассматриваемых аукционов. Напротив, как утверждал антимонопольный орган, на торгах, в которых принимали участие иные хозяйствующие субъекты, снижение начальной (максимальной) цены контракта достигало существенных значений (от 49% до 87%) за счет предложений, поступающих от участников соглашения.
